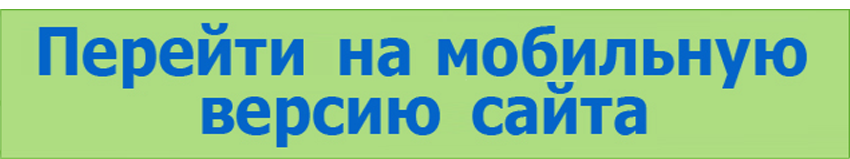|
Ольга Исаева
"Последнее лето детства"
(Из сборника "Мой папа - Штирлиц". Воспоминания об артековской смене 1974 года)
1
Как и все советские дети, я мечтала попасть в «Артек». Это был пионерский рай – международный, шикарный и абсолютно недосягаемый. В нем был построен коммунизм со всеми его атрибутами: вечным летом, теплым морем, загорелыми детскими колоннами, развевающимися знаменами и усиленным питанием. Но я хотела туда попасть не из-за усиленного питания, в котором вообще-то нуждалась, и даже не из-за моря, о котором мечтала с самого детского сада, – я мечтала попасть в «Артек», потому что путевками туда награждали лучших детей страны: героев, спортсменов, вундеркиндов, отличников, и вот с ними-то я и мечтала познакомиться.
Сама я при этом лучшей из лучших не была – у меня почти по всем предметам стояли тройки. Хорошо мне давалась только литература. А вот с русским было совсем плохо. На уроках я читала «внеклассную литературу», задумывалась, поэтому в диктанте вместо наречия «недосуг» писала «не до сук», а в слове «ребенок» пропускала букву «р». Да наша училка лучше бы удавилась, чем поставила мне четверку!
За успехи в искусстве и спорте попасть в «Артек» я тоже не могла. В танцевальном кружке меня ставили танцевать только за партнера, в музыке на пути к успеху непреодолимой преградой стояло сольфеджио, из гимнастической секции отчислили как «неперспективную», хотя в городских соревнованиях я заняла первое место по бревну во втором юношеском разряде. Отбирая у меня пропуск в спорткомплекс, тренер сказал: «Не плачь и пойми – у нас план по разрядникам. Бревно бревном, но конь у тебя хромает. С таким конем ты никогда даже первый юношеский не сделаешь».
Не лучше обстояло дело и с героизмом. Как и все, раз в четверть я рыскала по помойкам за металлоломом и выпрашивала у соседей старые газеты на макулатуру, но, как некоторые, тащить из дома чугунные сковородки или многотомные издания Горького – это уж простите. С тех пор как в сочинении на тему «Какими качествами должен обладать строитель коммунизма» я на первое место поставила чувство юмора, за мной укрепилась репутация человека опасного, и если кто-нибудь писал на стене ругательство или жаловался на то, что из портфеля у него пропало яблоко, вину до всяких разбирательств взваливали на меня. Приходилось бороться. Мой «жалкий лепет оправданий» вызывал у обвинителей еще большую ярость. Прочитав у Пушкина «кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей», я поразилась тому, как ясно он выразил то, что чувствовала я сама, и с тех пор повторяла эту фразу в трудную минуту.
Скептицизм не мешал мечтать об идеальном обществе, которое, как мне казалось, существует в «Артеке». Привести меня туда могло только чудо. В Бога, как и положено пионерке, я не верила, но на всякий случай каждую ночь перед сном молилась: «Господи, если Ты есть, пожалуйста, сделай так, чтобы не было войны, не болела мама и я попала в «Артек». Я как бы мысленно ставила Богу условие: сделаешь – поверю, нет – пеняй на себя. И что ж вы думаете?
Однажды мама пошла в горисполком «обивать пороги», то есть просить, чтобы нас с ней поставили в очередь на квартиру, и запропала. Целый день ее не было, так что я начала тревожно прислушиваться к шагам в коридоре и обиженно думать, что вот, мол, мама какая у меня, упилила из дома в восемь утра и нет ее, а я тут сиди нервничай. Словом, когда дверь, наконец, отворилась, вместо того чтобы, как обычно, подбежать и помочь маме раздеться, я уткнулась носом в математику, а она каким-то не своим ликующим голосом прокричала:
– Пляши, Ольга, в «Артек» едешь!
Я даже не улыбнулась.
– Куда?
И тут, лучась прямо-таки сверхъестественным светом, она, как была в пальто и грязных сапогах, подбежала ко мне по чистому полу и ну размахивать какой-то книжицей, на которой, как впоследствии оказалось, были нарисованы море, горы, белые корпуса и крупными буквами написано слово «АРТЕК»!
Я и всегда-то танцевать любила, а уж тут на радостях такую лезгинку сбацала, что в серванте фужеры сами собой сыграли «Оду к радости».
А дело было так. Мама записалась на прием к завгорисполкомом, с которым когда-то училась в институте и даже «дружила», то есть ходила на танцы и целовалась. Но все это было так давно, что в кабинете он сделал вид, что ее не узнает, а когда она ему напомнила, совсем раздулся от важности и пробурчал, что сделать для нее ничего не может, так как очередь на квартиры «заморожена». Мама рассказывала, что вышла из его кабинета «униженная и оскорбленная» (она из всех кабинетов такая выходила), но раз уж все равно взяла отгул, решила зайти в гороно попросить деньги на наглядные пособия для пионерской комнаты. Вот там-то, в кабинете у другой начальницы, с которой мама тоже училась в институте, потому что в нашем городе был всего один институт, в котором она училась вместе со всем городским начальством, на нас и свалилась эта невероятная удача – в «Артек» должна была поехать дочка этой начальницы, но как раз вчера она сломала ногу. Хозяйка кабинета жаловалась маме на невезение – мол, не в «Артеке» дело, не сейчас, так через полгода ее Ленка все равно в него попадет, но путевку жаль – смена юбилейная, пятидесятилетие пионерской организации. Мама сочувствовала, но на всякий случай спросила, нельзя ли ей эту горящую путевочку купить, и та сказала с сомнением: «Хочешь – бери. Только отъезд послезавтра, а нужно еще кучу справок собрать, анкеты заполнить, да и дорогая она, двести рублей. Потянешь?» Мама пообещала потянуть и на крыльях счастья полетела занимать деньги.
Свой восторг я даже описывать не буду. Скажу лишь, что, засыпая в ту ночь, шептала: «Спасибо Тебе, Господи, спасибо Тебе!» О том, что нас опять не поставили в очередь на квартиру, мы с мамой за целый вечер ни разу даже не вспомнили.
Весь следующий день мы провели в насквозь пропитанных вирусами кабинетах детской поликлиники, где мама просила, умоляла и даже плакала, убеждая дерматолога, вирусолога, ухогорлоноса, терапевта и заведующую, чтобы они заочно, не дожидаясь результатов анализов, подписали справки о моем безукоризненном здоровье и тем самым взяли бы на себя «личную ответственность». Я же должна была молчать и сидеть с грустными глазами, что было не так уж трудно. И тут случилось еще одно чудо – все эти тетеньки справки мне выписали, потому что у всех у них были дети и все они тоже мечтали попасть в «Артек».
Труднее оказалось договориться со школьным начальством о моих досрочных отметках. Дело было в апреле, моим одноклассникам предстояло еще учиться, учиться и учиться, поэтому маме пришлось идти и «унижаться перед этой шмакодявкой». Так она называла мою завучиху, которая по совместительству преподавала мне русский язык и литературу. С ней мама училась в одной институтской группе и по вполне очевидным для меня причинам терпеть ее не могла. Шмакодявка была партийная, принципиальная, мстительная. Обычно на ее вызовы в школу мама не реагировала, но тут хочешь не хочешь пришлось идти кланяться. Как мы и предполагали, та с двойным злорадством сообщила, что в «Артек» я попаду «только через ее хладный труп», и пришлось маме «ставить бутылку» директору. Он, хоть и был Героем Советского Союза, но взятками не пренебрегал. В общем, как сказала мама, «мир не без добрых людей».
Вечером, как виртуозы, мы в четыре руки стирали, гладили, штопали и метили марганцовкой мою одежду. «Чтобы не было стыдно перед людьми», мама даже сгоняла к соседке за «приличным» чемоданом. Не то чтобы на нашем были нацарапаны какие-то неприличные слова, но от долгой носки он разваливался и две его половинки приходилось скреплять ремнем.
Вернувшись с клетчатым польским пижоном, мама так раздухарилась, что достала из шкафа свои новые лакированные лодочки, которые я уже тайно не раз примеряла перед зеркалом, и, секунду поразмыслив, бережно, как новорожденных близнецов, уложила на дно. От невероятности свершившегося я чуть было не разревелась.
Но даже когда все уже было уложено, чемодан застегнут, накрахмаленная пионерская форма колом стояла на стуле, а мы лежали по кроватям, мама продолжала вбивать мне в голову правила поведения в обществе, которые ей самой, к сожалению, никогда не удавалось применить на практике. Я слушала ее призывы «молчать громче, знать свой шесток, быть тише воды, не лезть поперед батьки и не учить курицу», как вдруг увидела Шмакодявку, которая, хлопая крыльями, налетает на меня и, клюя железным клювом, кудахчет, что в «Артек» я попаду только через ее хладный труп…
Обычно в школу меня добудиться нельзя было никакими будильниками, хоть стучи над ухом молотком по пустому ведру, но в то утро я подскочила затемно. Мама уже не спала, раз в две минуты вскидываясь к будильнику, проверить – работает ли. Всю дорогу до станции мы неслись как на пожар, хотя времени до электрички было воз и маленькая тележка. Лишь в вагоне мама успокоилась и стала рассказывать о том, что в детстве тоже мечтала поехать в «Артек», но началась война, и ей пришлось мечтать о победе и о кусочке хлеба с комбижиром. А еще она говорила о какой-то «высшей справедливости», что, мол, хорошо, когда детям достается все, о чем мечтали их родители.
Я никакой «высшей справедливости» в том, что мама в детстве голодала, часами мерзла в очередях за хлебом, от чего заболела ревматизмом и с тех пор по два раза в год попадала в больницу в предынфарктном состоянии, а я теперь по «Артекам» разъезжаю, не видела. Если б можно было, я с величайшим удовольствием своим счастьем с ней поделилась бы. Скажем, будь у меня волшебная палочка, я могла бы превратить ее в невидимку, и тогда мы обе смогли бы поехать в «Артек»: спали бы в одной кровати, ели бы с одной тарелки и, никем не замеченная, она могла бы сколько угодно купаться в море. Но, увы, волшебной палочки у меня не было, хотя в глубине души я надеялась, что когда-нибудь ученые ее изобретут.
День был будний, холодный, сумрачный. На подъездах к Москве электричка напоминала, как говорили у нас в городе, «серокопченую» колбасу. Окна от духоты запотели, из тамбуров несло табачищем, хмурые люди по четверо сидели на одной скамье или стеной стояли в проходе и ни в какие чудеса не верили. А мне хотелось крикнуть: «Вы верьте, верьте! Смотрите на меня, я в «Артек» еду!»
2
Поезд уходил с того же вокзала, на который прибывала наша электричка, но на табло в центре зала никаких поездов, идущих в «Артек», указано не было. Под ним стояла толпа таких же, как мы, растерянных мам с детьми, куда идти никто не знал, а спросить было не у кого. Вдруг откуда-то появился загорелый пружинистый дядька в белой рубашке с пионерским галстуком и в шортах на волосатых ногах. Зычным голосом он скомандовал, чтобы все следовали за ним, и все, включая каких-то узбеков в халатах, цыганок с цыганятами и изможденных многодневным запоем командированных, понеслись за ним, но в конце туннеля уперлись в милицейский заслон. Перрон, с которого уходил поезд в «Артек», был оцеплен, пройти на него можно было, лишь предъявив документы и путевку. Мама пошутила: «Смотри-ка, вас охраняют прямо как членов правительства», а милиционер, проверявший наши документы, без тени улыбки поправил: «Как будущих членов правительства».
Поезд был новенький, как из игрушечного магазина. Стекла сияли, и каждое было украшено гирляндой ликующих детских лиц, а снизу хор мам и бабушек завывал свою излюбленную песню: «Не ходи без панамки, не заплывай за буйки, не ешь с кустов, слушайся вожатых, каждый день пиши». Мой вагон находился в самой голове поезда, и, пока мы к нему бежали, мама исполняла излюбленную арию под названием «Не подводи меня под монастырь». Задыхаясь, она выкрикивала: «Чтоб никаких там у меня анекдотиков и самовольных отлучек, никаких отрывов от коллектива и конфликтов с начальством…». Она могла бы продолжать до бесконечности, но взревел гудок, в испуге она всучила мне чемодан и путевку, и, не успев с ней толком попрощаться, я понеслась к своему вагону.
Меж тем поезд и не думал никуда отправляться, а только для острастки изредка гудел. Держась за сердце, мама наконец дотащилась до моего вагона. Я ждала ее в тамбуре и хотела выскочить на платформу, но ей надо было спешить на обратную электричку, поэтому она лишь грустно помахала мне и ушла, а у меня началась новая жизнь.
Меня совсем не огорчил тот факт, что некоторые ребята ехали в купейных вагонах, а мне достался плацкартный. Подумаешь. Я плацкартные в миллион тысяч раз больше любила. И соседки у меня оказались самые замечательные, и у каждой были особые заслуги перед Родиной: одна победила во всесоюзном конкурсе рисунков, другая была знатной сандружинницей, третья честно призналась, что путевку в «Артек» дали не ей, а папе, потому что он – известный композитор, написавший музыку к самым популярным детским песням, которые мы все отлично знали.
Звали эту девочку Аней, она была толстая, неуклюжая, но такая милая, что я сразу полюбила ее на всю жизнь. Свое место на верхней полке она согласилась поменять на мое нижнее, а я ничего на свете так не любила, как ездить на верхней полке. Меня, конечно, тоже спросили про заслуги, и, помня мамины заветы, я сказала, что танцую, пою, собачий вальс на пианино урвать могу, а по гимнастике у меня вообще разряд, но в подробности вдаваться не стала.
Ехали мы без остановок, но даже если бы они и были, все равно нас из вагонов бы не выпустили, так что почти все время я пролежала на своей полке, глядя в окно: на лесопосадки, поселки, заборы, гирлянды мокнущего под дождем белья, вереницы грузовиков у шлагбаумов, на бредущих вдоль насыпи женщин с лопатами, на разгружающих вагоны солдатиков, на очереди, на мальчишек, показывающих будущим артековцам голые тощие зады. В окне мелькали усыпанные бриллиантовыми ягодами кусты, на мокрых полях серели проплешины снега, в черных ветвях митинговали грачи, дымили трубы, блестели залатанные крыши, розовела за тюлевыми занавесками герань, в открытые форточки кошки принюхивались к весне, бурлили ручьи, выходили из берегов желтые вздувшиеся реки, гремели мосты, дрожали от вечернего заморозка укутанные зеленоватой дымкой леса, мерцали дальние огоньки и первые звезды. Я смотрела на Родину, и как же я ее любила! Казалось, сердце вылетит из грудной клетки и жаворонком полетит над поездом. В приоткрытую форточку ветер приносил запах лопающихся почек, сырости, грязи, навоза, мазута, угольного дыма. Увидев меня утром, девчонки покатились со смеху, потому что я была вся чумазая от копоти.
Кормили нас «сухим пайком», в котором из обычной еды были только крутые яйца и твердые невкусные галеты, а все остальное было из новогодних подарков: апельсин, яблоко, леденцы, шоколадные конфеты и печенье. Свой паек Аня сразу же отдала мне, потому что бабушка насовала ей в дорогу три авоськи пирожков, ватрушек, бутербродов с копченой колбасой, котлет, конфет, мандаринов, и всем этим Аня щедро с нами делилась. Это была не девочка, а добрая фея, которая превратила нашу поездку в пир горой. Ей и в голову не пришло, что все это она может «захорьковать». Мы так объелись, что две другие девочки тоже от своих пайков отказались, только конфеты съели, и я прибрала их «на черный день». Кто знает, а вдруг война!
Утром вместо облаков по верхушкам деревьев скакало пушистое солнце, окруженные цветущими садами украинские хаты напоминали пирожные с кремом, на платформах цветастые старухи торговали семечками и плюшками. Потом потянулись шпалеры пирамидальных тополей и алые атласные одеяла цветущих степей. Я вся превратилась в зрение, чтобы хоть глазами эту красотищу сфотографировать. Теперь уже не только я, но и весь вагон прилип к окнам. Когда проезжали Сиваш, в голове на мгновение вспыхнуло воспоминание о том, как на уроках истории наши по уши в гнилой воде переходили его, чтобы отобрать Крым у белых, но, как мокрая спичка, воспоминание чиркнуло и погасло, потому что Сиваш сиял, как огромное блюдо с расплавленным солнцем.
Всем не терпелось поскорее приехать. Только мне хотелось лежать и лежать на верхней полке, чтобы растянуть свое счастье на полжизни. Но вот, как сквозняк, по вагонам пронеслось слово «Симферополь», и Аня объяснила, что оттуда нас на автобусах повезут в «Артек» по горному серпантину. Она уже много раз ездила с папой в Крым в какие-то неведомые дома творчества, и по пути из Симферополя в Ялту у нее всегда кружилась голова. При словосочетании «горный серпантин» у меня тоже закружилась голова, но только от восторга, и я, как и все, с нетерпением стала ждать прибытия.
Симферополь встретил нас духовым оркестром и жарой. Просто не верилось, что вчера в Москве было холодно и шел дождь. Нас рассадили по автобусам и с песнями повезли… увы, не в «Артек», а на сортировочную базу , которую вожатые между собой называли «пересылкой». Это был большой, но все же тесный асфальтовый двор, окруженный бетонным забором с колючей проволокой. Приемная комиссия в административном корпусе занималась формированием дружин, а мы сидели на чемоданах и ждали своей очереди. , которую вожатые между собой называли «пересылкой». Это был большой, но все же тесный асфальтовый двор, окруженный бетонным забором с колючей проволокой. Приемная комиссия в административном корпусе занималась формированием дружин, а мы сидели на чемоданах и ждали своей очереди.
Народу на «пересылке» скопилось с нескольких поездов. Солнце шпарило вовсю. Цистерну с водой привезли только после того, как несколько человек упали в обморок. Кто-то из ребят наполнял водой пилотки, другие пили из горстей, я приспособила под посуду пустые картонные коробки от сухого пайка. Есть не хотелось, но поскольку все равно делать было нечего, мы ели сбереженные мною продукты, запивая их теплой, пахнущей картоном водой, и Аня поражалась моей смекалке. Я же счастлива была хоть чем-то ей отплатить за доброту.
С туалетами на пересылке тоже был полный кошмар. К ним стояли длиннющие очереди, а войти туда было просто страшно. Туалетной бумаги не было. В то, что артековцы способны так загадить общественные уборные, поверить было просто невозможно. Внутренне я негодовала, что вместо «Артека» нас запихнули в этот раскаленный асфальтовый мешок, на языке вертелось любимое мамино слово «бардак», но, помня данные ей обещания, я держала его за зубами.
Стемнело, когда нас вновь рассадили по автобусам. Петь пионерские песни уже никто не мог. Все хотели только спать. Аня привалилась ко мне и уснула. Мне было тяжело, но я терпела. Я для нее еще и не такое бы вытерпела. Мы ехали по горному серпантину в кромешной темноте, лишь изредка где-то далеко внизу, как созвездия, дрожали огоньки прибрежных поселков. В «Артек» мы приехали глубокой ночью. Извозюканные, сонные, мы спрыгивали на землю в надежде на то, что нас сразу же разведут по палатам, но предстояла еще камера хранения, куда надо было сдать чемоданы со всеми нашими вещами, медкомиссия, где нас проверяли на вшивость, баня, выдача униформы, заполнение анкет, распределение по отрядам. Я очень волновалась, что нас с Аней распределят в разные отряды, так как она закончила седьмой класс, а я только шестой, но было уже четыре часа утра, старшая пионервожатая от усталости еле языком ворочала, поэтому, даже не взглянув в документы, записала нас в один отряд.
А вот в одну палату нам попасть не удалось. Я, мужественно переносившая все тяготы сегодняшнего дня, ужасно расстроилась. Анечка стала меня утешать, мол, не горюй, зато будет к кому в гости ходить. Наивный человек – она в пионерлагерях никогда не была и не знала ни про традиционную вражду палат, ни про злую волю коллектива. Я же все это даже слишком хорошо знала и никаких иллюзий по этому поводу не питала. Засыпая, я пыталась вернуться в то восхитительное состояние, которое было у меня в поезде, но оно не возвращалось. Подозрение, что «Артек» – всего лишь навсего лагерь, только гораздо лучше охраняемый, отравило мое счастье.
3
Однако утром счастье вновь ко мне вернулось. Одна стена в нашей палате оказалась стеклянной, сквозь нее были видны горы, кипарисы, пальмы, розовые аллеи, но, главное, море – огромное, сверкающее, живое и почему-то очень родное, хотя раньше я его никогда не видела. Мы столпились перед этой стеной. Одна девочка накрыла голову полотенцем, оставив узкую щелочку для глаз, а когда мы спросили, зачем, объяснила, что из-за оптического эффекта море становится таким маленьким, что его можно уместить на ладони. Все мы, конечно, сделали то же самое и так играли до тех пор, пока кто-то не заметил, что снизу над нами смеются мальчишки. Пришлось убедиться в том, что даже в «Артеке» они остаются врединами и ехидинами, и на всю смену задернуть занавеску.
Надеясь, что сразу же после завтрака нас поведут к морю, мы надели под форму купальники, и тут на меня обиделась соседка по палате Люся Курочкина. В «Артек» она приехала из Магадана и по сравнению со всеми нами выглядела, как пробившаяся сквозь трещину в асфальте былиночка выглядит на фоне садовых цветов. А вот купальник на ней был точно такой же, как у моей мамы, грудастый, с пластмассовыми чашечками, каждую из которых можно было вместо шапки надеть на голову. Мне бы смолчать, но я мало того, что сообщила, что у моей мамы такой же, я еще и засмеялась. Люся вся сразу промокла, из глаз потекли слезы, из носа сопли, девчонки бросились ее утешать, и все меня осудили. Я стала оправдываться, мол, не хотела я ее обижать и смеялась не с издевкой, а просто потому что было смешно. Что ж, мне теперь и посмеяться нельзя?
Оказалось, что нельзя. Наплакавшись, Люся рассказала, что купальник на ней действительно мамин, потому что у них в семье четверо детей, одни девочки, так что на всех персональных купальников не напасешься. Про тех, кто жил в Магадане, у нас говорили, что «они погнались за длинным рублем». О том, что там живут дети, я никогда не слышала. Я вообще ничего не знала про Магадан. Только познакомившись с Люсей, представила себе лютую зиму, вечную мерзлоту, полгода длящуюся ночь и комнатку в общежитии, в которой, кроме Люси и ее мамы, живут еще три девочки. Отец был не в счет, он приезжал домой только раз в две недели, потому что был водителем-дальнобойщиком. Я так посочувствовала Люсе, что предложила вытащить эти дурацкие чашечки и ушить купальник по фигуре. Я даже вызвалась сама это сделать, но, видимо, решив обижаться на каждое мое слово, Люся ответила, что сама умеет иголку в руках держать, и отвернулась.
Однако, несмотря на все ожидания, после завтрака нас повели не к морю, а в корпус, где старшая пионервожатая прочитала нам лекцию об «Артеке». Когда-то на этом месте стояло несколько палаток, а теперь расположилось несколько лагерей, каждый из которых состоит из нескольких дружин и у каждой свое название. Наша дружина относилась к «Горному» лагерю, называлась «Алмазной» лагерю, называлась «Алмазной» и занимала отдельный многоэтажный корпус со всеми удобствами. Он был самым новым в «Артеке», находился ближе всего к дороге и дальше всего от моря. А ближе всего к морю находился лагерь «Морской» и занимала отдельный многоэтажный корпус со всеми удобствами. Он был самым новым в «Артеке», находился ближе всего к дороге и дальше всего от моря. А ближе всего к морю находился лагерь «Морской» , в котором жили одни иностранцы. Что, на мой взгляд, было несправедливо. Что они, лучше нас? , в котором жили одни иностранцы. Что, на мой взгляд, было несправедливо. Что они, лучше нас?
До столовой от нашего корпуса надо было топать строем минут десять под горку, а обратный путь занимал чуть ли не полчаса. Анечка моя сразу поняла, что в таких условиях ей будет трудно выжить, и попросила меня пойти с ней к старшей вожатой просить перевести нас из Горного лагеря в какой-нибудь менее трудный для жизни. Но даже из уважения к заслугам ее отца Ольга Павловна ничего для нее сделать не могла. Наш лагерь укомплектовали последним, ни одного свободного места в других уже не осталось. Я хотела было подбодрить Аню, что, мол, ничего, зато похудеешь, но она тоже на меня обиделась, и снова я совершенно не поняла почему. К счастью, мне довольно скоро удалось ее рассмешить, и она меня простила. от нашего корпуса надо было топать строем минут десять под горку, а обратный путь занимал чуть ли не полчаса. Анечка моя сразу поняла, что в таких условиях ей будет трудно выжить, и попросила меня пойти с ней к старшей вожатой просить перевести нас из Горного лагеря в какой-нибудь менее трудный для жизни. Но даже из уважения к заслугам ее отца Ольга Павловна ничего для нее сделать не могла. Наш лагерь укомплектовали последним, ни одного свободного места в других уже не осталось. Я хотела было подбодрить Аню, что, мол, ничего, зато похудеешь, но она тоже на меня обиделась, и снова я совершенно не поняла почему. К счастью, мне довольно скоро удалось ее рассмешить, и она меня простила.
До самого обеда нас мурыжили в корпусе. Нужно было выбрать название отряда, девиз, речевку, отрядную песню, командира, звеньевых, редколлегию, культорга, политрука, физорга, сандружину и старост палат. Я предложила все это сделать у моря, но вожатая сказала, что в первые дни мы вообще к нему ходить не будем, потому что нам надо пройти «акклиматизацию». Тут все прямо взвыли, но вожатая пообещала, что за шесть недель море нам так надоест, что мы сами начнем от него отлынивать, и пришлось смириться, хотя никто, конечно, ей не поверил.
Аню выбрали старостой палаты. Я хотела, чтобы меня тоже выбрали, тогда бы мы по-свойски могли с ней договариваться – одну неделю ее палата держит первое место по чистоте, вторую моя, но, когда она выдвинула мою кандидатуру, вожатая так решительно ее отклонила, что я испугалась, уж не написала ли Шмакодявка в «Артек» донос о моем плохом поведении. А что, запросто!
От этой догадки мурашки побежали у меня по спине. Заранее решив, что все обвинения буду отрицать, а если меня станут отправлять домой, убегу и буду жить в лесу, как Маугли, я судорожно обдумывала детали побега, но, пока вожатая делала вид, что все в порядке, я, как и все, записывала в блокнот правила артековской жизни и делала вид, что ни о чем не догадываюсь.
А правила были строгие. Под страхом выговора с занесением в личное дело и досрочного отправления домой запрещалось мазать ночью зубной пастой своих и чужих, устраивать темные, объявлять бойкоты, сплетничать, обзываться, драться, щипаться, царапаться, кусаться, плеваться, бросать друг в друга песком, камнями, палками, сорить, брать без разрешения чужие вещи, одному покидать территорию, уносить из столовой еду и выпрашивать у иностранцев жвачку. Но самым странным мне показалось то, что, даже встречая на территории совсем незнакомых людей, надо было всем отрядом кричать: «Всем-всем добрый день!» Я спросила: «А если нам встретится только один человек?», и вожатая объяснила, что это все равно, потому что доброго дня мы желаем не только встречным, но и своему отряду. Я спросила: «А если нам встретится только один человек?», и вожатая объяснила, что это все равно, потому что доброго дня мы желаем не только встречным, но и своему отряду.
После обеда был тихий час, а после полдника вновь пришлось тащиться в корпус на инструктаж об общении с иностранцами. Вожатая предупредила, что, поскольку смена юбилейная, к нам в дружину могут наведаться иностранные журналисты, которые будут задавать каверзные вопросы, например: «Почему СССР самая большая страна в мире, а уровень жизни у нас ниже, чем в капиталистических странах?» Мы удивились – как это? Нам же всегда говорили, что наоборот. Вожатая смотрела на нас выжидающе и надо было скорее соображать. Одна девочка подняла руку и сказала, что во время войны хозяйство в нашей стране было разрушено и многие годы ушли на его восстановление, но вожатая, игравшая роль иностранного журналиста, саркастически усмехнулась и почему-то с грузинским акцентом возразила, что в Западной Германии и Японии хозяйство тоже было полностью разрушено, а уровень жизни у них намного выше. Тогда какой-то мальчик объяснил, что ФРГ и Япония – страны маленькие, а наша самая большая в мире. Вожатую и это объяснение не удовлетворило. Пришлось мне поднять руку и сказать, что улучшению жизни в нашей стране мешают воровство, пьянство и блат. А что же еще? Кто-то же должен был сказать правду, которую все и без меня знали, только помалкивали. Глаза у вожатой выпрыгнули из орбит, перекосившись, как после стопки, она выдавила из себя, что к общению с иностранцами мы совершенно не готовы и она вынуждена раздать нам ответы на вопросы, которые надо будет выучить наизусть, а перед ужином сдать экзамен. Тут я снова вспомнила про письмо от завучихи, и сердце мое сжалось.
Вечером состоялся костер знакомства. Мы дали клятву говорить только правду и по кругу стали рассказывать о себе. Я очень боялась, что именно сейчас вожатая и уличит меня в мошенничестве, но она по-прежнему делала вид, что никакого письма не было. Зато утром, сразу после подъема, она вошла в палату и громко объявила: «Исаева, тебя вызывает начальник дружины». Губы у меня затряслись, ноги налились свинцом, и я поняла, что убежать в горы не удастся. Не убежишь же прямо из кабинета начальника! Я бросила прощальный взгляд на штору, за которой сияло море, и вслед за вожатой вышла из палаты. Мысленно я просила прощения у мамы, которую все-таки «подвела под монастырь», горевала, что не успела попрощаться с Аней, и представляла, как будут злорадствовать одноклассники и торжествовать завучиха.
Дрожа, как перед дракой, я вошла в кабинет начальника, оказавшегося тем самым загорелым дядькой с Курского вокзала, и, к моему удивлению, он не бросился меня сразу стыдить, а спросил, правда ли, что я несколько лет занималась гимнастикой и танцами. Сдерживаясь, чтобы не зарыдать, я кивнула. Он приказал поднять руку в салюте и пройтись по кабинету. Я думала, что он хочет проверить, не соврала ли я в анкете, и старалась так, что прямо дым из ушей шел. Несколько раз начальник скомандовал мне напра-налево, потом протянул руку и поздравил с назначением на должность флаговой. Я прямо обмерла от счастья и его длинную речь о том, как ответственна эта должность, потому что в нашей смене флаговые будут ходить за дружинным знаменем не только на линейках, но и на юбилейном параде, посвященном пятидесятилетию пионерской организации, где будут присутствовать главы правительств социалистических стран и лично Леонид Ильич Брежнев, слышала как во сне. Только когда тоном, не терпящим возражений, он спросил: «Справишься?», я очнулась и, задыхаясь от счастья, пролепетала: «Справлюсь!»
Выбежав из кабинета, я почувствовала такую невероятную легкость, будто превратилась в воздушный шарик. Было только непонятно, почему из всех девчонок в дружине во флаговые выбрали именно меня. Что у них, никого лучше не нашлось? С трудом сдерживаясь, чтобы не пройтись колесом, я подбежала к зеркалу и посмотрела на себя как бы со стороны. На меня взглянула девочка в пионерской форме: симпатичная, светленькая, курносая, точь-в-точь как на плакате «Спасибо великой партии за наше счастливое детство». Но долго любоваться на себя мне не дали. Вожатая предупредила, что сразу же после завтрака мне надо быть на репетиции, и я со всех ног кинулась на построение для похода в столовую.
В тот день, пока отряд разучивал песню и речевку, учился ходить и строиться, я вместе с еще одним флаговым и знаменосцем репетировала шаги и повороты, которые назывались красивым словом «церемониал». Знаменосцем был самый высокий парень из нашего отряда Петя Хрусталев (он в этом деле оказался профессионалом, так как уже два года носил знамя своего района в Москве), а другим флаговым был Славик с непроизносимой фамилией из города Клайпеда, который у себя дома был председателем городского совета дружины. Мальчишки наперебой объясняли мне, как держать руку в салюте, на какую высоту поднимать ногу, как пружинить и поворачиваться, я с лету ловила их объяснения, и они были мною очень довольны.
Мы репетировали весь день, так что Аню я видела только в столовой. Однако на следующий день, перед торжественной линейкой в честь открытия смены, она вся в слезах отыскала меня в гладильной, где я стояла в очереди к утюгу, чтобы отгладить парадную форму. Оказалось, что парадной формы Аниного размера на складе не нашлось, и ей выдали вожатскую, но ее надо было подкоротить, а она не умела. Вообще-то шить я не любила, мама с боем каждую неделю заставляла меня пришивать чистый воротничок к форме, но для Анечки я была готова на все.
В те первые дни меня распирало чувство благодарности к ней и вообще ко всем в «Артеке». Я вся настежь была распахнута навстречу окружавшей меня красоте и наслаждалась удобством, чистотой, порядком, вкуснятиной, которой нас кормили в столовой. Я готова была до посинения ходить строем, петь хором, салютовать и подчиняться правилам, какими бы дикими они мне ни казались, лишь бы стать в «Артеке» своей, и хотя прекрасно помнила, что снаружи жизнь ничем не напоминает здешний рай, уже через два дня готова была поверить, что стоит всем людям в стране захотеть подчиняться законам, как весь Советский Союз станет похожим на «Артек».
Я так много смеялась, что Славик прозвал меня «Здоровый детский смех». Он был остроумный, постоянно цитировал Ильфа и Петрова, а анекдоты сыпались из него, как монетки из разменного аппарата. По пути на линейку я то и дело останавливалась, чтобы отдышаться не столько от крутого подъема, сколько от смеха. Один Славкин анекдот я помню до сих пор: «К юбилею Ленина на всех советских предприятиях решили сделать продукцию с его изображением, и часовой завод выпустил настенные часы, в которых каждый час открывались дверцы, откуда выскакивал Ленин на броневике и кричал: «Ку-ку!» Я прямо рухнула от смеха. Навстречу нам по аллее сбегал какой-то мальчик. Он посмотрел на меня и улыбнулся. Его взгляд длился всего мгновение, к тому же я так хохотала, что мне до сих пор странно, что я ухитрилась его заметить, но все же я его заметила…
4
Все девочки чуть ли не с рождения мечтают о любви, и я не была исключением: вырезала из журнала «Экран» фотографии Видова, Конкина и Алена Делона, на вырванных из тетрадок страницах рисовала принцев и принцесс, в книжках торопливо пролистывала рассуждения автора и описания природы, чтобы поскорее добраться до объяснения в любви, шесть раз подряд, не выходя из кинотеатра, смотрела «Анжелику – маркизу ангелов».
Только с живописью было все наоборот. У нас дома хранился альбом с репродукциями картин знаменитых художников, который я любила рассматривать. Особенно мне нравились дамы в старинных нарядах, фрукты, цветы, посуда и животные, а вот картины, где, как объяснила мама, «аллегорически изображалась любовь», я терпеть не могла. На них жирный карапуз целился из лука в полуголого дяденьку, прихватывающего за широкую талию совершенно голую тетеньку, так что даже смотреть было противно.
Любовь я представляла себе иначе. Симпатичный парень, желательно старшеклассник, предлагает мне дружить, и мы начинаем ходить в кино, на каток и школьные вечера. В день Советской армии я дарю ему пластинку «Самоцветов», а он на Восьмое марта вручает мне духи «Красная Москва» и букетик мимозы. На переменах мы обмениваемся записочками, после уроков он провожает меня домой, но главное – нам друг с другом легко, весело, интересно.
Все это было возможно только в мечтах – старшеклассники на меня внимания не обращали, одноклассники на переменах курили, плевались через трубочку жеваными шариками, норовили задрать юбку, дернуть за косу, подставить ножку и ничего, кроме презрения, у меня не вызывали. Отчасти я так стремилась в «Артек», потому что надеялась встретить там мальчика, с которым придуманная мною сказка была бы возможна. И я его встретила.
Однако любовь оказалась совсем не такой, какой я ее себе представляла. Своевольная и коварная, она подкралась ко мне, когда, ни о чем не подозревая, я хохотала над анекдотом, сграбастала, закрыла глаза, так что я и вырваться не могла и ничего уже больше не видела, кроме лица того мальчика, который за мгновение до этого, улыбнувшись, прошел мимо.
Он был невысокий, худенький, в меру ушастый, с карими глазами, пухлыми губами, коротким носом и челкой, прикрывавшей бисер подростковых прыщиков. В нем не было ничего особенного, но, увидев его во второй раз, я содрогнулась от внутреннего взрыва такой силы, что сбилась с ноги и покраснела. Как назло, это случилось, когда на меня смотрела вся наша дружина. Я шла за знаменем, равняясь на трибуну, на которой стояли начальник лагеря, старшая вожатая и тот мальчик. Оказалось, что он не просто мальчик, а председатель совета нашей дружины и зовут его Сережа Щеглов. Дойдя до положенного места, мы застыли по стойке смирно, и, не разжимая губ, Славик прошипел: «Ты что, рехнулась?» Я и сама не понимала, что со мной, просто стояла красная как свекла и пыталась унять дрожь в коленках. Нечто подобное, только гораздо слабее, со мной случалось раньше на уроках математики, когда меня вызывали к доске. Однако Славик, с его привычкой во все совать свой нос, вдруг стал мне противен, и грубее, чем хотела, я буркнула: «Не твое дело».
С этого момента началось мое стремительное падение в глазах коллектива. Никто больше не слышал моего «детского смеха» и никто не видел ловкой, легкой, веселой и находчивой девочки с картинки про счастливое детство, так как совершенно внезапно для меня оно кончилось и началось тайное и, как мне тогда казалось, преступное превращение в женщину.
После отбоя я никак не могла уснуть. В голове пульсировало имя Сережа, перед глазами стояло его лицо. Мне было жарко, душно, хотелось вырваться из плена своего тела и из палаты, насыщеной сонным дыханием девяти других девочек. Сквозь штору на меня смотрела луна. Я встала и подошла к окну. Мир был залит жемчужным светом. В лунных лучах серебрилось море, блестели листья, беззвучной музыкой мерцали тысячи светлячков. Меня потянуло в этот волшебный мир так, что я почти решилась нарушить артековский закон, но одна из девчонок проснулась и, привстав, спросила: «Оль, ты что, лунатик?» Пришлось поскорее юркнуть в постель и промучиться без сна еще несколько часов. Наконец я не выдержала, оделась и выскользнула из палаты.
Главный выход из корпуса был закрыт. Было два запасных, но один тоже был заперт, а другой находился прямо напротив кабинета начальника. Из его приоткрытой двери доносился гул голосов и тянуло табачным дымом. Одного беглого взгляда хватило, чтобы заметить бутылки и лоснящиеся лица вожатых, но подсматривать я не стала. Наружная дверь оказалась незапертой, и я нырнула в душистую, влажную, гремящую цикадами ночь.
Что я испытала? Счастье? Полет? Боль детской души, в которой стремительно растет взрослое чувство? Страх перед неведомой, необъяснимой, непобедимой силой, внезапно связавшей меня с другим человеком? Потрясение от того, что мое стремление к идеалу вдруг нашло свое воплощение и обыкновенный мальчик стал казаться мне самым прекрасным человеком на свете? Все вместе.
Даже тот факт, что Сережа принадлежал к презираемой мною категории начальников, почему-то не имел значения. Досадно было лишь, что он весь на виду, поэтому другие девчонки тоже обратили на него внимание. Я испытывала настоящую муку, когда перед отбоем в палате обсуждались его достоинства и недостатки. Кое-кому из девчонок он понравился, другие удивлялись тому, что председателем назначили такого замухрышку. Чтобы скрыть ее, я презрительно кривилась, говорила, что судить о людях по внешности это мещанство, и никого в тайну своей души посвящать не собиралась.
Еще вчера я и понятия не имела о ее существовании, но сейчас она болью дала о себе знать. Столько лет мечтавшая о пионерском рае, я вдруг почувствовала его глубокую чуждость себе, коллективные радости мне померзели, хорошо я ощущала себя теперь лишь наедине со своей любовью, а о том, чтобы НЕ отделяться от коллектива, не могло быть и речи.
Я была изумлена, растеряна и сама еще толком не поняла, что со мной происходит, а окружающие уже почувствовали перемену во мне и стали лезть с вопросами. Я отмалчивалась, отнекивалась, но неожиданно для самой себя взрывалась, так что особо заботливых отбрасывало от меня взрывной волной возмущения. Хотелось, чтобы от меня все отстали, чтобы хоть на пять минут в «Артеке» остались только мы с Сережей, потому что при посторонних я даже взглянуть на него боялась. Мы принадлежали к разным отрядам, наши палаты находились на разных этажах, пересечься с ним я могла лишь случайно, но даже когда это происходило, я так смущалась, что отворачивалась и долго еще не в силах была сладить с сердцебиением и слабостью в ногах. Когда же его рядом не было, жизнь теряла смысл, лишь, как в капкане, выла внутри угодившая в детскую душу страсть.
Я стала угрюмой. Окружающие осуждали меня, думая, что я загордилась. Только Аня догадалась, в чем дело, и спросила: «Оль, ты что, влюбилась?» Я кивнула и отвернулась, чтобы скрыть внезапно вскипевшие слезы. С тех пор она никогда меня больше об этом не спрашивала, но раз уж она все равно все знала, я перестала ее стыдиться, и наша дружба еще больше окрепла.
5
Сразу же после открытия смены на общеартековском стадионе начались репетиции юбилейного парада. В нем должны были участвовать не только знаменные группы и актив дружин, но и хоры, танцевальные ансамбли, циркачи, спортсмены и музыканты из всех советских республик. Пока на зеленом, под гребеночку причесанном поле они танцевали, пели, играли и кувыркались, демонстрируя пустой правительственной трибуне любовь и преданность, мы ждали своей очереди. Сережа был где-то рядом, но оглянуться и поискать его глазами я не решалась. Мне было безумно важно скрыть свою любовь от всех и даже от него, потому что весь мой жизненный опыт подсказывал, что, став достоянием «общественности», святое для меня чувство покроется липким налетом насмешек и осуждения. Тогда я еще не понимала, что любовь требует отваги и уважения к себе. Несвойственная мне от природы скрытность сковывала, я становилась неловкой, рассеянной, часто ошибалась, и Славик шипел: «Опять не с той ноги пошла, корова». начались репетиции юбилейного парада. В нем должны были участвовать не только знаменные группы и актив дружин, но и хоры, танцевальные ансамбли, циркачи, спортсмены и музыканты из всех советских республик. Пока на зеленом, под гребеночку причесанном поле они танцевали, пели, играли и кувыркались, демонстрируя пустой правительственной трибуне любовь и преданность, мы ждали своей очереди. Сережа был где-то рядом, но оглянуться и поискать его глазами я не решалась. Мне было безумно важно скрыть свою любовь от всех и даже от него, потому что весь мой жизненный опыт подсказывал, что, став достоянием «общественности», святое для меня чувство покроется липким налетом насмешек и осуждения. Тогда я еще не понимала, что любовь требует отваги и уважения к себе. Несвойственная мне от природы скрытность сковывала, я становилась неловкой, рассеянной, часто ошибалась, и Славик шипел: «Опять не с той ноги пошла, корова».
За три дня до парада он поставил на совете дружины вопрос о моей замене. Старшая вожатая пришла в ужас: «Все должности утверждены, на трибуне будет лично Леонид Ильич, времени на подготовку замены нет». «Что с тобой происходит? – возмущалась она. – Какое право ты имеешь нас так подводить?» Что я могла ей ответить? Я обещала исправиться и старалась, очень старалась.
Сережу я боготворила, но в то же время обижалась на него: зачем он появился в моей жизни именно сейчас и все испортил? Я ведь так хотела быть как все, я так мечтала быть хорошей. Оказалось, что любовь – это совсем не то счастье, которое я себе представляла. Как никогда, я чувствовала себя одинокой и чужой в коллективе, но вместе с тем впервые в жизни осознала себя частью чего-то возвышенного, таинственного, прекрасного и догадалась, что оно называется поэзией.
Меж тем пропасть недоверия между мной и отрядом расширялась. А тут еще, оступившись на спуске, Аня подвернула ногу, и ее на «Скорой помощи» отвезли в Ялтинскую больницу. Туда немедленно примчалась ее бабушка и стала уговаривать вернуться домой, так что, когда мне наконец удалось дозвониться до больницы, Аня грустно сказала, что в «Артек», скорее всего, уже не вернется.
Я тосковала так, что казалось, в моем теле нет такой клеточки, которая бы не болела. С ним вообще творилось что-то странное: мышцы ныли, грудь набухла, под мышками и внизу живота закудрявилась светлая поросль, а волосы на голове вдруг поднялись и завились золотыми протуберанцами. По ночам я в умывалке завороженно рассматривала творившиеся со мной метаморфозы, но оказалось, что и другие их заметили. Однажды Петя как бы невзначай пробормотал:
– Ты стала похожа на Примаверу.
Я удивилась:
– На какую еще Веру?
Он хмыкнул:
– Дура провинциальная.
Я отфутболила:
– Жлоб московский.
Он не обиделся. Я ему нравилась. Идя впереди со знаменем, он не видел моих сбоев, а Славик с его привычкой командовать все больше его раздражал.
6
Парад приближался. Пока отряд загорал и купался, мы торчали на стадионе, и через не могу я заучила все шаги и повороты. Утром в день парада неожиданно из больницы вернулась Аня на костылях и с бабушкой. Я страшно ей обрадовалась, но даже пяти минут не смогла с ней пробыть, так как надо было бежать на склад за парадной формой, пришивать к блузке золотые аксельбанты, заплетать косы, завязывать банты, прикалывать пилотку, натирать мелом тапочки, натягивать гольфы и перчатки. Анина бабушка хотела остаться на парад, но ей не разрешили, потому что посторонним вход на него был запрещен. Стеная и умоляя всех, даже случайных встречных, беречь ее внучку, она на той же «Скорой помощи» укатила в Ялту, а Аню на дружинной машине повезли на стадион.
В назначенное время там скопилось несколько тысяч артековцев, но парад не начинали, потому что Брежнев со свитой задерживался. Солнце палило так, будто решило заживо изжарить «заслуженных детей страны», но о том, что творилось снаружи, я понятия не имела, так как знаменные группы ждали в узком бетонном проходе между трибунами, где было сумрачно, душно и тесно. Неизвестность взвинтила наши нервы до предела. Хотелось пить и в туалет, но даже на минуту отлучиться было нельзя. Славка уже несколько дней со мной не разговаривал, но вдруг воскликнул: «Смотри, у тебя на ноге кровь». Я сначала подумала, что это он не мне, но, взглянув вниз, обмерла. Из-под короткой белой юбочки к гольфам по моей правой ноге тянулась темная полоска. Я так перепугалась, что совсем перестала соображать. В панике я пыталась стянуть с распухших рук перчатки, но Славка скомандовал: «Бегом в медпункт. Скоро выходить, а нас без тебя не выпустят».
Медицинская палатка была разбита перед входом на стадион. Там была страшная суета, кого-то приводили в чувство нашатырным спиртом, кого-то несли на носилках к «Скорой помощи». Увидев меня, одна из медсестер сказала: «А, гости пришли. Поздравляю!» – и протянула упаковку ваты, но заметив, что во мне дрожит каждая клеточка, спросила: «У тебя что, в первый раз?» И хоть я ей не ответила, она все поняла и успокоила: «Да не дрожи ты так, жить будешь, у всех взрослых девочек это бывает».
Но я продолжала дрожать. Тогда она завела меня за ширму, помогла стащить трусики, и поскольку других не было, забинтовала меня, как тяжелораненую, так что ни одной капельки не попало на униформу. Через несколько минут я вновь стояла рядом с Петей и Славиком. Их распирало от любопытства, но лезть ко мне с вопросами я их уже отучила.
Наконец передние знамена зашевелились, колонна подтянулась и стала убывать в открывшиеся двери. Наша знаменная группа замыкала шествие. После туннеля, в огромном, ярко освещенном пространстве я ослепла и ориентировалась только на Славкин голос: «Тяни носок, равняйся, руку держи, раз-два, раз-два». Аня потом рассказывала, что зрелище было великолепное: зеленое поле, белая униформа, алые бархатные знамена.
Пока говорили речи, вручали цветы, танцевали, пели и кувыркались, мы стояли перед правительственной трибуной по стойке смирно. Тело мое одеревенело, пот затекал в глаза, голова кружилась, но я даже пальцем ноги пошевелить не могла. Когда, наконец, прозвучала команда к выносу знамен, я сделала все, как положено, но почему-то колонна зашагала в одну сторону, а я в другую. Стадион ахнул. Еще бы! Такой позор на глазах у иностранцев и лично Леонида Ильича! К счастью, далеко уйти мне не дали. Славка, как сайгак, в два прыжка догнал, схватил за руку и увлек за собой. После парада он чуть не задушил меня, а старшая вожатая смерила таким взглядом, что я поняла – добром это для меня не кончится.
Казалось, все надо мной смеются, и я бы точно убежала в горы, если бы не мысль об Ане – как же она без меня, и подозрение, что медсестра просто хотела меня утешить, а на самом деле я смертельно больна. С одной стороны, мне было очень страшно, с другой – я понимала, что только смертельная болезнь оправдает меня в глазах товарищей. Люди ведь вообще жалеют только умирающих или уже мертвых. Еле переставляя стертые бинтами ноги, я вошла в медкабинет. Медсестра хмуро меня выслушала и объявила, что смерть моя лет на семьдесят откладывается. Потом она прочла мне лекцию про физиологические изменения в организме у девочек во время переходного периода и, узнав, что мама ни о чем подобном меня не предупреждала, проворчала, что половое воспитание в нашей стране находится на пещерном уровне.
Вечером меня песочили на совете дружины. Я смотрела в пол и только по Сережиному голосу догадывалась, что он осуждает меня не от души, а по необходимости, зато остальные как с цепи сорвались. На упреки я отвечала молчанием. Да и что я могла сказать в свое оправдание, если сама себя осуждала за то, что опозорила дружину в глазах всего «Артека». Тайным голосованием меня отстранили от должности флаговой и на мое место назначили другую девочку.
Аня дежурила у двери и, будто в сачок, поймала меня, когда, вся в слезах, я вылетела из пионерской.
– Не переживай, – шепнула она, – скоро все забудется.
Но, обливая слезами ее пухлое плечо, я провыла:
– Такой позор не забыва-а-а-ается.
Тогда она грустно сказала:
– Все равно ты счастливее меня. У меня ревмокардит, нога вывихнута, и купаться мне не разрешают.
Мне было очень жалко ее, но представить себе, что кому-то сейчас может быть хуже, чем мне, я просто не могла. Аню все любили, а меня презирали, да и купаться мне тоже не разрешили из-за этой дурацкой менструации.
Пока отряд был на пляже , мы с Аней сидели в зашторенной палате и рассказывали друг другу о своей жизни. Вообще-то условия наши были очень разные. Аня жила в центре Москвы в пятикомнатной квартире со всеми удобствами, а я в провинциальном городке в рабочем общежитии с кухней и туалетом на сто двадцать семей. У Ани были мама, папа, бабушка и собака, а у меня, кроме мамы, никого на свете. Летом она жила на собственной даче, а я таскалась по лагерям. Но было в нашей жизни и много общего. Так же, как и у меня, у Ани не было друзей, так же, как и я, она с детства мечтала попасть в «Артек» и молилась, чтобы врачи разрешили ей сюда приехать. Выходило так, что Бог все-таки существует, раз ответил на наши молитвы, но даже друг с другом говорить на эту тему мы не решались. , мы с Аней сидели в зашторенной палате и рассказывали друг другу о своей жизни. Вообще-то условия наши были очень разные. Аня жила в центре Москвы в пятикомнатной квартире со всеми удобствами, а я в провинциальном городке в рабочем общежитии с кухней и туалетом на сто двадцать семей. У Ани были мама, папа, бабушка и собака, а у меня, кроме мамы, никого на свете. Летом она жила на собственной даче, а я таскалась по лагерям. Но было в нашей жизни и много общего. Так же, как и у меня, у Ани не было друзей, так же, как и я, она с детства мечтала попасть в «Артек» и молилась, чтобы врачи разрешили ей сюда приехать. Выходило так, что Бог все-таки существует, раз ответил на наши молитвы, но даже друг с другом говорить на эту тему мы не решались.
От всеобщего осуждения я спряталась за ее широкую спину, и теперь мы почти не расставались. Из-за того, что она не могла быстро двигаться, нас освободили от хождения строем. В столовую мы приходили, когда отряд уже топал обратно, и не спеша пировали вдвоем в пустой гулкой столовой. Дома, доедая за мной оставленное на тарелке, мама упрекала за то, что я малоежка. Посмотела бы она на меня сейчас! Аппетит прорезался просто зверский. За обедом я съедала по пять котлет в один присест. Про бутерброды с черной икрой уж и не говорю. Нам, конечно, их не каждый день давали, но раза три за смену точно. Многим в отряде она не нравилась, поэтому я уплетала ее, как говорили у нас в казарме, «за себя и за того парня» и росла прямо на глазах. Было даже трудно представить, что в начале смены мы со Славиком были одного роста. Теперь я была чуть ли не на полголовы выше почти всех наших мальчишек, а он доходил мне только до плеча и с полным правом называл «Тетей Лошадью».
Сережу я почти не видела, но очень хотела видеть, поэтому, когда поблизости никого не было, подходила к висевшей в вестибюле Доске почета и жадно смотрела на его фотографию. Однажды кто-то увидел и спросил: «Что, завидуешь?» Я, как всегда, огрызнулась, но больше к Доске почета подходить не решалась, поэтому у меня созрел план украсть Сережину фотографию. Я понимала, что ему вреда от этого не будет никакого, зато я смогу любоваться на него сколько угодно. В свой план я не посвятила даже Аню, просто однажды ночью сделала и все тут, а утром выяснилось, что я совершила настоящее преступление.
Сначала кражу обсуждали на совете отряда, и вожатая просила преступника сознаться по-хорошему. Потом звеньевые допрашивали каждого члена звена. То же происходило в других отрядах. Я молчала как партизан. Новая фотография уже давно висела на Доске почета, а старую все искали. Во время ужина состоялся тайный рейд по палатам. Вот тогда-то у меня под матрацем и обнаружили ту несчастную фотографию.
Я вернулась из столовой, а в спальне меня уже поджидали разгоряченные сенсацией девчонки. Фотография лежала поверх моей развороченной постели, через несколько минут должен был состояться товарищеский суд, но дожидаться его я не стала. Схватив фотографию, я выбежала из палаты и кинулась куда глаза глядят. А глядели они на море.
Было еще светло, но на пляже не было ни души. Я спряталась за самый дальний валун, поцеловала Сережу, в последний раз посмотрела на него, потом разорвала фотографию на мелкие кусочки и, обливаясь слезами, похоронила под галькой. Что теперь делать, я не знала, представить свое возвращение в дружину не могла. Мне казалось, что жизнь моя кончена, что, запятнав себя таким позором, я могу лишь умереть.
Сумерки сгущались. В Морском лагере прозвучал горн к отбою. Скоро небо слилось с морем и мир накрыла мягкая, душная, как бархатное покрывало, тьма. Лишь в двух шагах от меня белела кромка волн да время от времени горизонт озарялся лучом пограничного прожектора. Луны не было. Море, как спящий гигант, дышало рядом мерно, бесстрастно, и ощущение позора, недавно казавшееся мне таким всепоглощающим, стало таять. Постепенно я смирилась со своей участью, исключение из «Артека» было неизбежно, терять мне было нечего… и я решила искупаться. Не возвращаться же домой с позором, так ни разу и не поплавав в море.
Море приняло меня в свои упругие объятия, и через несколько минут я превратилась в нимфу – дочь Луны и Моря. Служанки отца – теплые, ласковые волны – укачивали меня, но я тосковала по пропавшей матери. Я звала ее, но она не появлялась, лишь ее посланницы – звезды пели мне колыбельную на своем беззвучном языке. Из забытья меня вывели голоса, что-то кричащие в мегафон. Кто-то шел вдоль кромки моря, освещая себе путь фонариками. С самого начала смены нас пугали пограничниками с собаками. По берегу проходила государственная граница, с другой стороны моря находилась Турция. Из страха перед пограничниками я даже в самых дальних своих ночных путешествиях к морю не спускалась, а тут почему-то про них забыла. Метнувшись к валуну, за которым лежала моя одежда, я торопливо натянула ее и, подняв руки, вышла навстречу человеку с фонариком, которым, к моему огромному облегчению, оказалась наша вожатая. Увидев меня, она так возликовала, что не сразу даже рассердилась.
Тем не менее товарищеский суд надо мной все же состоялся. Почти все мои товарищи считали, что фотографию председателя совета дружины я украла с Доски почета из мести за то, что меня сняли с должности флаговой. Я стояла у стены позора с бледным лицом и красными ушами и молчала. За нарушение кодекса чести меня должны были исключить из «Артека» и отправить домой, но в тот момент, когда объявили голосование, Аня подняла руку и дрожащим голосом сказала: «Да неужели вы не понимаете, что Оля настоящий товарищ и никогда не украла бы фотографию из мести. Просто она в Сережу влюбилась и хотела всегда иметь ее при себе».
От неожиданности все как-то пришли в себя. Вожатая спросила: «Это правда?» – и, опустив глаза, я кивнула. Так Аня спасла меня от исключения из «Артека», а вот саму ее скоро забрали домой, и на этот раз она уже не сопротивлялась – ей трудно было ходить по горам. После ее отъезда для меня началась новая жизнь. Моя тайная любовь с похищением фотографии и побегом вызвала в девчонках сочувствие. К тому же я оказалась не единственной в нашем отряде «рабой любви». Все были в кого-то влюблены, передавали друг другу записочки, назначали свидания, вздыхали по ночам. Кроме того, каждый день приносил какие-нибудь новые интересные события: посещение эсминца, поход в горы, поездки в Севастополь, в Ливадию, в Никитский ботанический сад, конкурс бальных танцев , в котором мы с Петей, между прочим, заняли второе место. , в котором мы с Петей, между прочим, заняли второе место.
Как и предсказывала Аня, мой позор скоро забылся, меня оставили в покое, да и сама я привыкла к своему новому состоянию. Любовь уже не оглушала меня, а, как тихая музыка, постоянно звучала в душе. Мне было хорошо просто оттого, что Сережа живет где-то рядом, но смена стремительно катила к концу, и я с ужасом считала дни до отъезда.
Двадцать второго июня в «Артеке» отмечался День Павших. Целый день у Вечного огня сменялся почетный караул. То ли случайно, то ли это старшая вожатая надо мной сжалилась, но в карауле я оказалась вместе с Сережей. Целых пять минут мы простояли с ним по обе стороны Вечного огня по стойке смирно и ни разу не взглянули друг на друга, а когда нас сменили, разошлись в разные стороны, но все равно эти пять минут были самыми счастливыми в моей жизни в «Артеке». сменялся почетный караул. То ли случайно, то ли это старшая вожатая надо мной сжалилась, но в карауле я оказалась вместе с Сережей. Целых пять минут мы простояли с ним по обе стороны Вечного огня по стойке смирно и ни разу не взглянули друг на друга, а когда нас сменили, разошлись в разные стороны, но все равно эти пять минут были самыми счастливыми в моей жизни в «Артеке».
На прощальный вечер я хотела надеть мамины лодочки, которые так и пролежали всю смену в чемодане, но они оказались мне малы, так что танцевать пришлось в своих заслуженных тапках. Тем не менее мальчики то и дело меня приглашали, в том числе и Славик. Многие говорили, что я очень хорошо танцую, а Петя сказал, что я самая красивая девочка в дружине, но меня это совсем не обрадовало. Неподалеку от нас Сережа танцевал с девочкой из своего отряда, и сердце мое сжималось от боли.
В день отъезда состоялся общенародный рев. Делегации из союзных республик разъезжались по очереди. Первыми уехали латыши. На прощание Славик подпрыгнул и чмокнул меня в щеку. Это было так смешно, что я сразу же ему все простила. Потом уезжали украинцы, белорусы, молдаване, армяне, и остававшиеся то и дело неслись к автобусам обниматься, рыдать, обещать дружить вечно.
Сережа жил в Москве. Домой мы возвращались с ним в одном поезде, но в разных вагонах. Я все время чувствовала его близость. Раз я даже решилась зайти в его вагон, но тут же столкнулась с ним лицом к лицу и, опустив глаза, прошла мимо. На обратном пути я его уже не встретила. А Москва все приближалась. Я, конечно, очень соскучилась по маме, но мысль о возвращении в нашу с ней общую жизнь с серостью, грязью, плевками, окурками, бранью и вонью была мне противна. Как и шесть недель назад, я без отрыва смотрела в окно, но на этот раз ничего не видела из-за застилавших глаза слез.
В Москве было холодно, встречавшие стояли на перроне в плащах и с мокрыми зонтами. Вместо мамы меня встречала ее школьная подруга тетя Рая. Увидев меня, она ахнула: «Боже, как ты выросла!», но я не нашла в себе сил ей даже улыбнуться. Она надеялась, что мы сразу же уйдем, но остатки нашего отряда собрались в круг и запели отрядную песню. Оттесненная в толпу растерянных родителей тетя Рая недоуменно озиралась по сторонам и не понимала, что же случилось со всеми этими загорелыми, красивыми рыдающими детьми. Раскачиваясь из стороны в сторону, мы пели артековские песни, никому не хотелось размыкать круг и ставить точку на нашей общей жизни, но тетя Рая потянула: «Пойдем, Олечка, а то я на работу опоздаю». Она была человеком мягким, покладистым, робким, очень боялась свою начальницу. Пришлось мне первой выйти из круга. Идя за тетей Раей, я то и дело оглядывалась в надежде последний раз увидеть Сережу. И вдруг я его увидела. Он шел один, быстро лавируя в толпе. Казалось, чемодан его ничего не весит. Он обогнал нас, но потом, замедлив шаги, сравнялся с нами и пошел рядом. Шаг в шаг мы дошли до метро, спустились вниз на параллельных эскалаторах, одновременно оказались в зале кольцевой станции. Услышав шум приближавшегося поезда, тетя Рая заторопила: «Бежим скорее», но я взглянула на нее с такой мольбой, что она отступила.
Мы остались с Сережей наедине. То есть вокруг нас кипела обычная московская толкучка, но мы ее не замечали. Впервые после нашей первой встречи мы смотрели друг на друга, и этот взгляд стал еще одним чудом, случившимся со мной в то незабываемое лето. Он длился всего мгновенье, но сказал мне так много, что даже тридцать пять лет спустя я чувствую, что он все еще продолжается...
| |